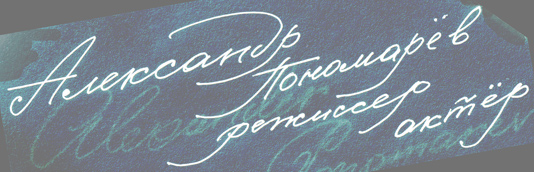Я шагаю по Москве
КоллажМарина Дмитревская
«Петербургский театральный журнал», №2(20), 2000
Вообще-то, по мегаполису шагать трудно…
Не стану рисовать картину сегодняшней театральной Москвы — это невозможно. Не стоит делать вид, что мы, изредка и ненадолго попадая туда, знаем ее театральную действительность. Мы знаем про отсутствие (пока) новой режиссерской генерации, хотя когда приходишь в РАТИ, видишь энергичные режиссерские работы (например, С. Алдонина), а в театрах России встречаешь хорошие спектакли молодых москвичей (например, учениц П. Н. Фоменко Е. Невежиной, М. Глуховской). Мы знаем, что во главе многих театров стоят люди, которым за 80, что Москва то проваливается под землю, то земля вздымается пузырями не только на Манежной площади, но и в театральной среде… Когда читаешь про блеск машины по имени «Карл» в спектакле «Современника» «Три товарища» и одновременно — про спектакль Ю. Грымова о С. Дали, хочется назвать статью о Москве — «„Карл“ у Галы украл кораллы»…
Но я начну с другого.
Когда я пытаюсь определить, какие наиболее яркие (не обязательно точные) образы возникают у меня в памяти при слове «Москва», — я почему-то вспоминаю мемуары И. И. Панаева. Как, начинающий петербургский литератор, приехал он в Москву — и в гости к Аксакову и Загоскину. Обедают, пьют, все московское хлебосольство окутывает Панаева гостеприимными парами, и тут Аксаков говорит, что, мол, надо бы ему Мочалова посмотреть. А Загоскин прибавляет, что вряд ли удастся — Павел Степанович в запое. Едут к Мочалову, Аксаков его уговаривает: перестань, Павел Степанович, на время пить, сыграй для гостя, прервись, мол, покажи себя. Все тут близко, все друзья и все родные (кто бы в Петербурге поехал Мартынова уговаривать?). Едут на Воробьевы горы — и оттуда открывается Панаеву Москва во всем ее великолепии: солнечный день, мороз, золотые купола! И обнимаются они, и плачут от восторга перед этой жизнью, ее изобилием, талантом Мочалова, теплотой и дружественностью этого небольшого, в сущности, города…
И еще вспоминается… как каждый день собирались в доме у дяди Гиляя за обильным обедом золотые газетные перья — Дорошевич, Амфитеатров и Гиляровский — и за этим же столом писали свои ежедневные корреспонденции в столичные газеты, чтобы успеть передать их к вечернему поезду… И тоже — сытно, уютно и дружественно. Огромные, талантливые, несуетные люди. Радостная, теплая, широкая жизнь.
Петербург остался — как был. Ветреным, чиновным, мистическим, культурным. Солнце в пять часов в июле освещает Сенную так, как написано у Достоевского, и не возникает вопроса, какая реальность — первая. Как написано — так и освещает. В Петербурге вначале было слово, его запечатлевшее, карандаш, его нарисовавший. Он навсегда остается городом второй реальности.
В изменившейся за последние годы Москве первая реальность не просто все больше и больше является первой (так было и в тот момент, когда Панаев приехал к Загоскину и Аксакову), она просто перестает подразумевать вторую. Даже если солнце на Чистых прудах заходит так, как написано, его луч касается какого-нибудь новейшего красного мраморного «римского» портика с «золотой» надписью «Магазин», а из середины Москвы-реки бьет фонтан — дело новых рук человеческих (представьте себе фонтан из середины Невы или даже Фонтанки!). Пожалуй, только ночью Москва приобретает черты художественные — и памятник Жукову на Красной площади вдруг может показаться пародией на Медного всадника…
Московская суета успешно пытается стать деловитостью, превращая при этом суету в суетность. Время здесь действительно — деньги, реальные, не нарисованные, а деньги обозначили время.
«В старой Москве все было дешево — говядина, театр и человек», — писал Влас Дорошевич. В новой Москве все дорого.
Мы сидим на сцене, вокруг нас построены четыре (!) алтаря, идет венчание, горят свечи, Фокин разбирается с собой, своими бесами и заказами, а ты не можешь уйти, потому что священник машет кадилом и ты находишься внутри действия, внутри фальшивого храма и фальшивого театра, испытывая равно неловкое чувство, если ты верующий человек и если ты атеист. Играли замечательный Игорь Ясулович, который непонятно как жив в этой вредоносной среде, и жутковатая французская актриса, имени которой я не знаю и не хочу узнать (призрак ее Татьяны Репиной мерещится жениху на венчании, а мне целый год мерещится, что она все еще читает по-французски монолог Нины Заречной. Несомненно, в эти минуты «приближался дьявол», я практически видела его глаза, пахло серой вперемешку с ладаном). От всего этого хотелось или действительно в пустую церковь (в пустую!) и прийти в себя, или не ходить ни в церковь, ни в театр долго-долго.
В новой Москве Загорецких теперь не два, а больше, и все в чести. Нет, Загорецкий ничуть не лучше петербургского частного пристава Оха или чиновников Герца, Шерца и Шмерца (тут Сухово-Кобылин Грибоедову ответит прямым текстом, а всякий живущий ныне в Петербурге укажет пальцем и назовет их сегодняшний адрес). Но в Москве, как писал Н. И. Надеждин, сосуществуют «все стихии московской паркетной жизни». Здесь кто-то «натирает паркет» сначала вокруг перспективного Праудина (проехали…), Женовача (проехали…), Козлова (проехали…), Бутусова (пауза…) и отъезжает по натертому паркету в дальние страны, не боясь однажды поскользнуться. Кажется, здесь продают не только дружбы и отношения и не только сюжеты и тексты, но уже — знаки препинания и межбуквенные пробелы. Это читается между строк, потому что расстояние между строками тоже оплачено.
Театральная критика в Москве становится все больше похожа на команду быстрого реагирования. С одной стороны — прекрасно (столько лет мечтали, чтобы рецензии у нас писались в ночь и выходили наутро — «как там»). С другой, эта скоропись, «скоропостижность» оценок — единых и часто очень похожих друг на друга — смущает и «усредняет» тексты казалось бы разных авторов. Скажем, осенью дружно и не без оснований московские газеты разнесли в пух и прах последнюю премьеру П. Н. Фоменко «Воскрешение, или Чудо святого Антония» в Вахтанговском театре. Но ругают Фоменко за то же, за что раньше превозносили, ибо абсолютно все родовые признаки его искусства в спектакле присутствуют не меньше, чем в «Пиковой даме», о которой писалось в иных выражениях. Фоменко не стал ни лучше, ни хуже, свойства его режиссуры те же, и не стану пробегом, «шагая по Москве», их характеризовать (не тот случай). Неудача этого спектакля не случайна и коренится в сущностных, я бы сказала, мировоззренческих проблемах этого режиссера. О них когда-нибудь потом.
Москва театрально-критическая — Москва уже не Маркова, Аникста, Рудницкого, Свободина (уходят, уходят), но Москва Соловьевой, Туровской, Гаевского, Крымовой, Зингермана, Рыбакова, Смелянского (какое профессиональное счастье, что они есть!) — рождает на глазах у них же, здравствующих, образы яркие и дикие.
В старой Москве было, как известно, «два университета», а теперь много. И некоторые их не кончают. Например, Виталий Вульф, серебряный шар которого регулярно падает на отечественные лица голубым светом телеэкрана. Я действительно не знаю его настоящей биографии, но раньше, во времена Островского, таких персонажей называли «типами». Теперь исследователь Островского Т. Москвина называет подобное тому, что Вульф произносит с экрана, «шумом культуры». Полное ощущение, что он получал образование не в университетах, а на московских кухнях и в прихожих, спрятавшись на вешалке среди шуб, черпал и запоминал обрывочные сведения: «Ах, у Книппер опять выкидыш… Маню сняли с роли… Коля страдает поносом…» Какое-то время я точно понимала: его «Шар голубой» крутится-вертится гимном театральной необразованности и той Москве, где действительно «все дешево — говядина, театр и человек». Сначала я думала, что именно отсутствие базового профессионального образования лишило Вульфа способности к обобщениям, и оттого его тексты так беспомощно бессвязны. Но потом поняла, что дело не в этом — фразы, которые он произносит, стоят в ряд, но не рождают собственно текста и вызывают физическую дрожь болезненным отсутствием причинно-следственных связей. Типа — «Она много пила. Репетировали „Трех сестер“. И я подумал. Она опять много пила, спала с кем попало. Антон Павлович, будучи гимназистом, намеревался стать доктором. Как грустно играла в финале музыка». Наверное, я воспроизвожу не совсем точно, но так трудно имитировать логические аномалии. Всякое репродуцирование больной информации губительно для тех, кто воспринимает ее. Я физически не могу находиться у экрана и слушать Вульфа, мне кажется — я схожу с ума. Монтаж? Но недавно на юбилее театра Комедии он вышел поздравлять театр лично, а не с экрана. Фразы строились так же! «И вот я подумал,— сказал Вульф,— что у этого театра есть потенция и художественный руководитель». Вслушайтесь: он подумал (то есть обозначил мысль!), что есть… талант и лестница.
Иногда кажется — в Москве пишут, как на заборе. «Московский комсомолец», Марина Райкина. Крайне необразованный и грубый тип газетного обозревателя, «бутербродный критик», «рецензист», как выразился бы Дорошевич. Тоже, кажется, без специального образования. Чтобы однофамилица (или родственница?) Аркадия Райкина, для которого серость и хамство как органические образования были предметом сатиры, — стала именем нарицательным («Ну ты же не Марина Райкина!» — говорят теперь) — жизнь действительно должна была изменить и снизить цены. Но потрясает не это, а сами московские деятели. «Ах, эта Райкина! Ну, эта Райкина!» — слышу я который год. Коллеги, да не подавайте ей руку и не давайте интервью — и у М. Райкиной в одночасье не станет материала, ибо, оказавшись один на один с текстом любого спектакля, она не сможет вступить с ним в художественный диалог. Нет, ругают, но интервью дают. И премии. Это Москва. Где стоит одному печатно оскорбить другого — другой берет первого на зарплату, а первый идет… Где на вопрос коллеги: «Будет ли здесь Х?» — с подозрительностью переспрашивают: «А он тебе зачем?»
Вот и складывается московская картинка — берендеево царство, культурный Вавилон с соломенными стогами, вокруг которых водят хоровод футуристические монстры и французские актрисы, православные священники и босые офицеры. А еще есть Гамлеты, Жак и его господин, святой Антоний, антрепризные дуэты и трио… Музыка Пьяцолы в обработке ансамбля Покровского сопровождает их художественные поиски истины. Наверное, так и должно быть в этом городе. Это нормально. Для него. И нечего плакать на Воробьевых горах. Москва живет сама по себе («Никто ей на свете не нужен, сама лишь собой дорожит», — писал когда-то в нашем журнале Вадим Жук). Да что Жук, Гоголь писал: «Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями…» Я не знаю Москвы. И никто ее нынче как следует не знает.
Я шагаю по Петербургу. Вообще-то, по нему шагать тоже трудно.
Январь 2000 г.